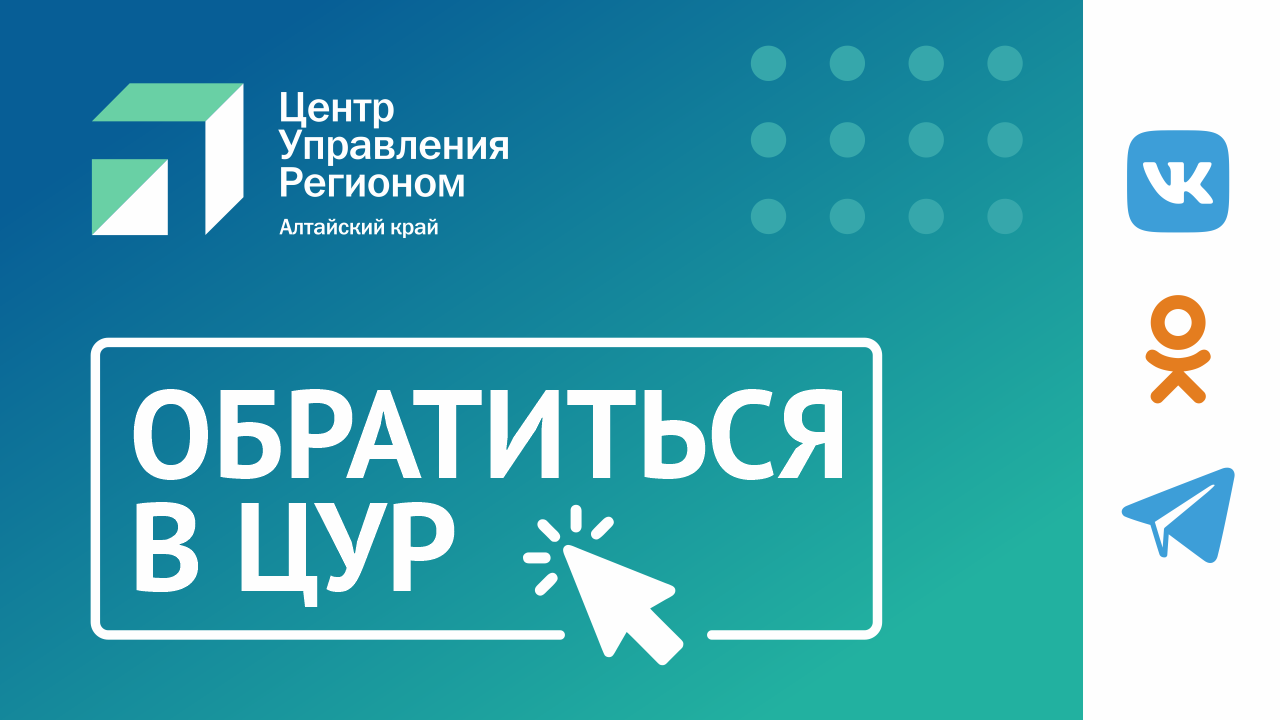Душевное письмо
Историй, одну из которых я сейчас расскажу, в пятидесятые годы прошлого столетия у меня было немало. Историй трогательных, грустных, смешных, порой нелепых.
Вот как это происходило.
– Здравствуй, Герадий!
– Здравствуйте, тетя Мария!
– А отец твой, уважаемый председатель совета Семен Иванович, где?
– В отпуске. К брату уехал. Болеет дядя Максим. Безнадежный.
– Вот оно как. Отходит, значит, Максимушка. А какой мужик был. Красавец. Ну, да может Господь смилуется, поправится небочь. Да я ведь не к отцу пришла, а к тебе, родненькому. Один ты у меня надежа и опора, хоть и не в больших годах. Один ты на всю деревню, не считая тятьки твоего, шибко грамотный. Есть, конечно, некоторые, какие по слогам читать соображают, а чтоб писать, ну просто смех и грех. Говорят, в грамоте ты и родителя превзошел. Вот возьмешь да на его место сядешь, нас уму-разуму учить будешь.
– Скажете же, тетя Мария. Очень мне это надо… Я не из таких. Что пришли-то?
– Дык, че пришла… Опять по тому же делу. Письмишко надо бы сообразить. Я тебе и яичек пяток принесла. За те два случая и за сегодняшний. Вот кладу в чашку. Пользуйся. Ешь на здоровье. На вот бумагу. Расправь ее, помялась немного. Чернила-то да ручка есть у тебя, небочь?
– А как же. Учусь все-таки…
– Это в каком же классе ты таперича?
– В десятый перешел.
– В последнем стало быть. Вона как… Да-а-а. А потом куды?
– В институт…
– И на кого? Учиться стало быть?
– На учителя.
– Как Раков Николай Михайлович будешь?
– Как он.
Беру бумагу, расправляю ее, разглаживаю, ставлю перед собой чернильницу-непроливашку, беру ручку с пером «№ 86», выжидательно гляжу на соседку.
Она молчит, думает о своем.
– Как будем писать, – нарушая ее молчание, спрашиваю я, – как в прошлые разы?
– А как мы писали? Я уже и запамятовала.
– Я тебе вопросы задавал, ты отвечала. Я записывал. Хорошо получилось.
– Ой, как хорошо. Даже удивительно. Нюрка Дымова к моей сестре, которой мы писать будем, в город ездила, в гости к ней заходила. Знаешь что рассказывала?
– Что?
– А то… Сестра шибко письма от меня хвалила. Кто это, спрашивает, там моей Маньке такие послания сочиняет? Уж больно ласкательные и чувствительные. Я их помногу раз читаю, реву дурнушкой и во сне вижу, как пташечкой лечу в родные края к любимой сестреночке, бездетной и вдовой горемыке. Вот так, Герадий. Спасибо тебе на этом.
– Ну что, начинаем?
– Давай… Только я тебе нынче говорить буду, а ты записывать. Договорились?
– Мне без разницы. Лишь бы тебе было хорошо, в радость.
– Уважительный ты, Герадий. Хорошего воспитания. Сразу видно, правильно тебя в школе учат. И в семье тоже. Особливо отец твой. А мы темные, глупые, куды нам. Я вот даже в церковно-приходскую школу не ходила. Сызмальства в работе была. Н-да… Пиши, значит…
И она начала диктовать: «Здравствуйте, дорогие и достопочтимые мои: семейство Осколковых, дорогие мои сродственники и сродственницы. Обращаюсь это я к вам ваша любимая сестра и тетя, которой вот на прошлой неделе исполнилось шестьдесят пять годочков, но, слава Богу, жива, здорова, чего и вам желаю.
Во первых строках моего письма обращаюсь к зятю, моему дорогому Петру Харламовичу и желаю ему здоровья, долгих лет жизни, всяческого достатка и счастья на долгие годы. Чтоб работал, не покладая рук, и берег семью и деток – племянников моих.
В дальнейшем обращаюсь к сестре моей, Анне Васильевне и желаю ей того же, что и зятю моему дорогому, а еще, чтоб сбылись все ее пожелания, и чтоб она пташечкой сизокрылой ко мне хоть на денечек прилетела хоть к Покрову, хоть к Рождеству Христову.
А что касаемо семейства вашего, то старшему сыну, племяннику Христоне желаю невесту хорошую работящую найтить, обжениться и деток завести, как в жизни положено.
Племяннице Нюре желаю стать еще краше, подрасти и тоже найти хорошего человека, непьющего, и пойти с ним рука об руку через всю жизню.
Васятке и Николке – близняшкам желаю послушания родителям, поменьше драться, хулиганить и матюгаться, чтоб Боженька не наказал и не разгневался на их деяния и безобразия.
Убогонькой Верочке дай, Господи, ума-разума, чтоб заговорила, как все люди, и ходила, а не ползала. Прости ее и вразуми, Отче Наш… Антошке младшенькому, что в зыбке еще качается, посылаю мое благословление и желаю здоровьица, скореича вырасти и стать помощником во всех делах.
А окромя сродственников ближних посылаю приветы и поклон двоюродным братьям и сестрам: Василию Потемкину и его жене Матрене, Антону Первухину и его жене Раисе, Семену Горбатому, Василию Хренову и его матери, Катерине Митрохиной, Авдотье Тереховой и ее дочке-красавице Клаве, Рогову Василию и его супружнице Матрене, а еще Василию желаю, чтоб он пить перестал, а его жена чтоб забрюхатила и кого-нибудь родила, а то так и умрет пустотелая.
А знакомцам, с которыми встречалась, когда гостила у сестры, передаю привет и особливо Василию Глотову, Миколе Заболотному, Якову Средникову».
Далее под диктовку тетке Марии записываю около тридцати фамилий и поражаюсь ее памяти, накрепко запечатлевшей такое количество едва знакомых людей за столь короткий срок.
После минутного отдыха Мария продолжает диктовать:
«И еще всем, всем низко кланяюсь. Вот и рассказала о себе все доподлинно и как есть за все это долгое время и наревелась вдосталь, и как бы побывала у вас и нагостилась.
Засим остаюсь жива и здорова, чего и вам желаю.
Ваша незабываемая Мария».
Мария берет большую, сделанную из бересты и украшенную затейливой резьбой ларец-шкатулку, открывает куполообразную крышку, достает «фабричный» конверт, несколько марок и подает мне:
– наклей сколько положено марок, засунь письмишко в конверт, сбегай к магазину, брось посланьице в ящик. Ты парнишка молодой, резвый, не развалишься, а мне лишние шаги туда-сюда ни к чему.
Я, выполнив ее просьбу, возвращаюсь домой. Гостья не ушла, сидит на венском стуле (предмет нашей гордости, у нас их целых 12), дремлет.
Я незаметно кладу в шкатулку яйца, опускаю крышку, набрасываю на петельку небольшой крючок.
Тетя Мария открывает глаза.
– Что-то приморилась я с этим письмишком. Пойду пожалуй.
Мария поднимается, берет за ручку ларец-шкатулку, делает два-три шага, яйца внутри скатываются влево, вниз. Почувствовав это, Мария останавливается, внимательно смотрит на меня. Спрашивает:
– Значит, обратно положил. Так?
– Так, – отвечаю я.
– А почему?
– Так надо. Так я считаю.
– А я по другому думаю. Ты меня уважил? Уважил. Три раза. Должна я тебя в ответ уважить? Обязана. Хоть раз. Иначе как я о себе буду думать? Плохо. А почему? Потому что буду неблагодарной. Будет меня совесть мучить? Обязательно. Долго. Пока не забудется грешок. А что еще хуже знаешь? Не знаешь. Бог накажет. Потому как за добро добром платить следует. А ты меня обидел. Благодарность не принял. Побрезговал. Гордость показал. Грех это. Большой.
– Я комсомолец. Бога и грех не признаю. А добро надо делать бесплатно. Иначе это корысть и жадность. Так меня учили.
– Плохие у тебя учителя. Разве можно обижать старого человека? Вдову вдобавок. И хотя, ты, говорят, пятерочник круглый, а дурак и непонятливый, как дитя, ты ведь что показал? Что гребуешь мной и моим подарком. Отец твой хоть и мировой мужик, а ничему путнему тебя не научил, не воспитал в уважении. Пожалюсь я ему на тебя.
– За что? Я хотел, как лучше. У вас курочек едва десяток наберется. Яички ой как нужны.
– А ты моих курей не щупай и яички не считай. Мне всего хватает. Не бедствую. Возьми яички, не обижай.
– Не возьму. Пусть так и будет.
– Ну, тогда прощевай. Свидимся в сельсовете.
И ведь свиделись. Обсуждали меня в сельсовете. Присутствовали мой отец, секретарь сельсовета Иван Иванович Перегнутов и секретарь парткома Иван Антонович Клюев. Выслушав обе стороны, заспорили.
– Ни черта не понимаю, – горячился Клюев, – кто в чем виноват, и из-за чего сыр-бор. Сын твой, Семен Иванович, прав: за добрые дела мзду брать нельзя, тем более комсомольцу. И Мария права. Если тебе что-то дарят из уважения, тем более старший (а его всегда надо слушать, на то он и старший), бери, иначе считают: зазнался ты, брезгуешь человеком. А это обида, можно сказать, оскорбление. Выходит, оба правы и неправы и должны друг перед другом виниться. А нет, штрафануть по пятерке каждого. На этом и закончим.
– Ни черта не закончим, – возразил отец. – Как я есть на данном этапе советская власть и отвечаю за все, то и виноват во всем я. И мой отпрыск тоже. Марию Васильевну, в прошлом лучшую доярку района и края, я даже малой грамоте не обучил, не говоря уже о семилетнем техникуме. А ведь это стыдобушка и что ни на есть упущение с моей стороны. Вот она и ходит по дворам и кланяется всяким грамотеям, а они морду воротят, подарки не берут. Хотя по правде и брать нельзя. Я это всем категорически запрещаю, а тебе, Герка, в первую очередь.
– Так брать или не брать? – поинтересовался Перегнутов. – Что-то ты темнишь, председатель.
– А черт его знает, – разозлился отец. – Герка, ты как считаешь? Тебя там в Пристани зря что ли учат?
– Не знаю, – огрызнулся я.
– Ладно, – разозлился отец, – тогда я как коммунист и председатель совета постановляю. Первое, значится: будешь ты, Маша до конца дней своих ходить ко мне в совет, а я без всяких воздаяний и возлияний письма писать буду, куда угодно, и сколько угодно.
А Герку моего, недотепу, как Тарас Бульба накажу. Тот своего придурка пристрелил, а я помягше поступлю. Получишь ты от меня что ни на есть крепкую оплеуху. И за Марию, и за то, что прилюдно бесстыдно Людку Кизилову тискаешь и за пазуху к ней лазишь. А она, дуреха, млеет да хихикает. Отец ее мне жалился. Вот так.
И не успел я сообразить что к чему, как ладонь отца опустилась на мой затылок, и я с трудом усидел на табуретке. Стыд и обида были такими, что слезы сами полились из глаз.
Тетка Мария, увидев эту картину, заговорила, зачастила:
– Это что же творишь, председатель Семен Иванович? За что ты его так круто? Парнишка что ни на есть самый лучший в деревне: учится на пятерки, поведения тихого, книжки читает, ласковый, услужливый, не матерщинник какой. Учителем собирается стать. А Людке я сама выскажу. Хорошая девка блюсти себя должна, а эта всякое позволяет. А парню что, сорвал цветок, понюхал и выбросил. Отец ее пьянчуга и дурак. Драть надо девку. А ты, Герадий, прости меня полоумную и дряхлую. Из-за меня все.
– И ты меня прости, тетя Маша, – проговорил я сквозь слезы.
– Ну, вот и порешили. Что и требовалось подсказать. Все в рихму. Можно по домам идти, – сказал Клюев.
…Милые вы мои, дорогие сердцу и памяти юности люди… Добрые, честные, наивные до самопожертвования старшие современники. Тихо и незаметно ушли вы из жизни, сделав великое дело. Как нужны вы мне сейчас в век чистогана и матерых хищников, когда за все платят втридорога, не получая ничего взамен, когда исчезло почти все святое, что раньше ценилось больше жизни: честь, совесть, достоинство, доброта.