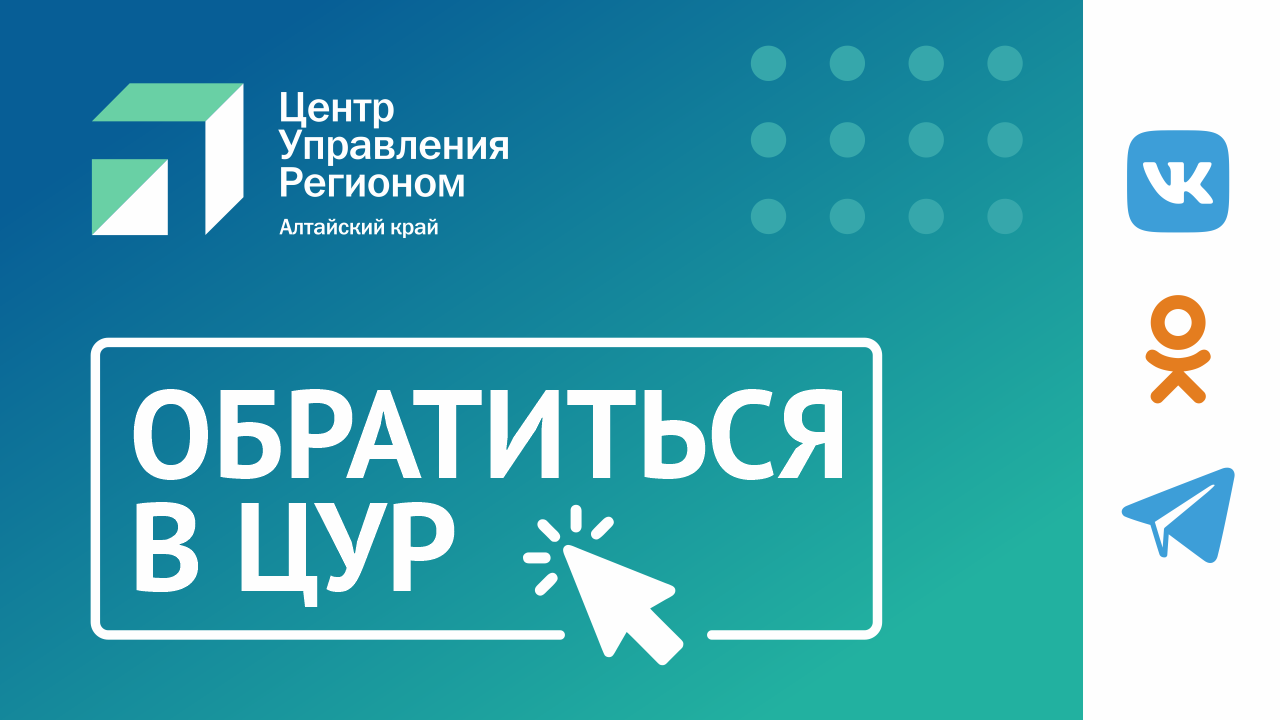Об узнике концлагерей
Тему Победного Мая редакция газеты не заканчивает. Материалы о фронтовиках и тружениках тыла будут печататься и далее. Более того, мы решили вернуться к освещению весьма больной и трагической темы в судьбе людей военного поколения, истории наших земляков, которым не по своей воле пришлось побывать в тенетах коричневой паутины – в концентрационных лагерях фашистской Германии.
В канун первомайских праздников позвонила в редакцию Галина Петровна Фролова, библиотекарь, бывший учитель из Лобанихи. Предложила вернуться к разговору на эту тему на страницах «Сельчанки:
— Материала достаточно по судьбе И. С. Степаненко, учителя, директора начальной школы в п. Невский нашего сельсовета. Он уже в 1975 году с читателями районки делился горестными воспоминаниями о времени нахождения в лагерях, — пояснила женщина, — я согласна помогать в предоставлении в редакцию имеющихся материалов.
Журналисты приняли решение поддержать инициативу нашей читательницы и рассказать о судьбе в годы войны Ивана Степановича. Тем более, что 11 апреля был международный день освобождения узников фашистских лагерей, 9 Мая страна отпраздновала День Великой Победы, да и персонаж того заслуживает.
Как рассказала Г. П. Фролова, в школьной библиотеке, благодаря Надежде Максимовны Ольховской, учителя русского языка и литературы сохранились газетные вырезки прошлых лет, данные об участниках ВОВ из Лобанихи.
Ей удалось зимой по Интернету связаться с внучкой И. С. Степаненко, она студентка Барнаульского государственного пединститута, учится на лингвистическом факультете. Таисия ответила в соцсетях через месяц прислала материалы и фотографии деда.
Созвонилась Галина с её папой, сыном ветерана, Анатолием Ивановичем Степаненко, он прислал воспоминания об отце:
«Мой папа родился 5 июля 1920 года в с. Новичиха. В 1937 году окончил 10 классов средней школы. 4 Октября 1937 года начал работать учителем в поселке Маховое Солоновского сельсовета, затем был переведен учителем начальной школы в п. Большевик Лобанихинского сельсовета (Малиновка).
В октябре 1940 года его призвали в Советскую Армию, попал служить на Украину в г. Винница в гаубичный артиллерийский полк, затем началась война.
8 Октября 1941 года попал в окружение у ст. Пологи оказался в плену у немцев»…
Как это произошло, вспоминает моя дочь Таисия: «В трактор, который тянул большую пушку, прямой наводкой попал вражеский снаряд. Дальнейшее продвижение батареи было затруднено. Ночлег. Дед помнит шум моторов и свет автомобильных фар, на машинах были видны кресты, скоротечный ближний бой и всё! Далее… ПЛЕН. Он умер в мирное время за несколько дней до моего дня рождения».
«Колонна советских военнопленных несколько дней двигалась в неизвестном направлении, продолжает в письме А. И. Степаненко, — силы солдат были на исходе. Вскоре, вдвоем с сослуживцем, отец, воспользовавшись отсутствием бдительности у караульных, совершили побег. Передвигались ночами в надежде выйти к своим. В одном из сел, надеясь найти еды, нарвались на полицаев, те отвели их в комендатуру.
Далее, вместе с украинской молодежью по железной дороге эшелоном Иван Степанович был вывезен в Германию на работы. Вначале он пребывал в лагере Шанефельд г. Берлин. Прошел слух, рассказывал папа, что будет отбираться группа самых крепких, здоровых мужчин на работу на секретных объектах, а по окончании всех должны были расстрелять. С товарищем совершают очередной побег. Жили в лесу, питались, чем придется. Вскоре их поймали и отправили в тюрьму, а потом в концлагерь в г. Швибус. О проведенных годах в них, отец делился воспоминаниями в районной газете к 30-летию Победы.
5 мая 1945 года союзные Американские войска вступили на территорию Австрии и освободили Эбензее. Зимой 1946 года Иван Степанович проходил фильтрацию в органах НКВД, затем вернулся в Новичиху. Начались мирные дни строительства и восстановления народного хозяйства.
В 1947 году Новичихинское районо назначает отца учителем начальных классов Лобанихинской семилетней школы, а в последствии, директором начальной школы в п. Красный партизан (Невский), где он проработал почти 30 лет до выхода на пенсию в 1975 году. В 1948 году он женился на девушке Марии, в семье появились четверо детей: Виктор (1949 гр.), Валентина (1953-1996 гр.), Тамара (1955 гр.) и я – Анатолий (1958 гр.)
В 1975 году пенсионер Степаненко поселяется со всей семьей в Новичихе. В мае 1982 года умирает его жена, наша мама, он остается один. На предложение детей переехать к детям в город – отказывается. Чтобы сгладить одиночество, он устраивается сторожем в Райсельхозтехнику, где и работает до 1990 года. Осенью этого же года по путевке ветеран приезжает на лечение в Барнаульский госпиталь, ему делают операцию. Дает согласие на переезд в Барнаул и в ночь с 26 на 27 февраля 1993 года на моих глазах умирает.
Каким был И. С. Степаненко в жизни, могут рассказать оставшиеся ещё в живых односельчане. Ученики его любили, земляки уважали за профессионализм и бескорыстность, за игру на гармошке и умение исполнять песни, особенно украинские.
Отец выжил даже в лагере Маутхаузен, где фашисты особенно свирепствовали и расправлялись с беспомощными военнопленными. Он сам порой удивлялся, что не сгинул в адских условиях на чужбине. Потому жил и радовался каждому новому дню, наступающему с восходом солнца.
Очень прошу своих земляков, редакцию опубликовать воспоминания нашего дорого человека, бывшего узника концлагерей. Дай Бог всем здоровья и мирного неба на долгие годы. С уважением, А. И. Степаненко».
В следующем номере «Сельчанка» читайте записки Ивана Степановича, его взволнованный рассказ о том, как зверствовали фашисты над беззащитными людьми, оказавшихся в неволе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Прочтите, дорогие друзья и представьте, какую судьбу нашему народу, советским людям готовили немецкие захватчики, не победи наши деды и отцы их тогда в кровопролитной схватке за независимость.
***
И. СТЕПАНЕНКО: В ТЕНЕТАХ КОРИЧНЕВОЙ ПАУТИНЫ
(Записки узника концлагерей)
…Горы бывают разные: молодые и старые. У молодых – голые и дикие, ребристые, острые вершины скал. Старые уже округлились, обросли лесами и утратили свою суровость.
Так и память. Вчерашнее, позавчерашнее или даже годичной давности событие ярко остается в памяти, а через десять-пятнадцать лет оно уже теряет свою остроту, как бы обрастая мягким мхом, только местами открывая голые, обвалившиеся стены…
Достаточно лет прошло с тех пор, как я, измученный и полуживой, вырвался из тенет коричневой паутины фашистских концлагерей. Многое уже забылось. Память не сохранила все фамилии, которые знал, притупились ужасные картины пыток и издевательств. Но ещё и сейчас я часто вскакиваю ночью, покрытый холодным потом, когда вижу во сне тяжкие дни концлагеря, порку, вешание, расстрелы, слышу плач детей и отчаянные крики матерей. Временами я сам, шатаясь и изнемогая от голода и усталости, толкаю в гору тележку с камнями, толкаю, пока не захватывает дыхание и я… я просыпаюсь. Забыть этого не смогу никогда.
В канун тридцатилетия Победы, как бы ни было тяжело ворошить в памяти мрачные дни заключения, я решил взяться за перо, чтобы еще раз напомнить людям, что готовили советскому народу «цивилизованные» варвары двадцатого века – фашисты.
***
Я попал в плен в начале войны. Вместе с другими военнопленными был увезен в Германию. Два года мы работали на стройке в Берлине, жили в четвертом лагере местечка Шенефельд. А в августе 1944 года ребят помоложе и поздоровее вывезли на восток страны. Там мы пилили лес для военных целей. Кормили военнопленных из рук вон плохо, лишь бы человек мог держаться на ногах.
14 октября 1944 года я и Петр Вильховик нарушили распорядок лагеря и были пойманы офицером, руководящим одной из рабочих колонн русских. Однако когда нас вели вместе с колонной, Петр переоделся в одежду товарища и в первом уже переулке города Унругштат сумел скрыться. Бежать ему помог голландец, которому офицер приказал наблюдать за нами. С голландцем мы были хорошо знакомы и поддерживали дружеские отношения.
Так я остался один. Когда мы пришли на место, немецкий офицер вывел меня из строя и повел в штаб воинской части, а голландца за побег Петра Вильховика избил.
В штабе меня сразу окружила толпа офицеров и солдат. Не спрашивая, кто я и зачем сюда привели, начали зверски избивать.
Вскоре подошел оберлейтенант с переводчиком, были вызваны офицеры наших колонн. И когда выяснилась моя вина, на голову посыпались новые удары. Особенно усердствовали два офицера с плетками.
Кто отнес меня в городскую тюрьму, я уже никогда не узнаю. Здесь я провалялся шесть дней. А 19 октября жандармы повели меня на допрос, чтобы снова повторить избиения.
Этим же вечером, надев наручники, меня под конвоем повели на вокзал, чтобы отправить в тюрьму города Швибуса. Там я пробыл ещё трое суток. Наконец, приехали эсэсовцы и, орудуя прикладами, погрузили заключенных в грузовики. Из семнадцати человек только я был русским, остальные – поляки.
Через 12 километров нас ждал штрафной лагерь Бритс. Не доезжая ста метров до него, всех построили, прозвучала команда «Лютцен ап!», заключенные сорвали с головы береты и кепки, а кто не успел, получил удар прикладом.
В воротах лагеря нас встретили вооруженные палками эсэсовцы. Прогнав через толпу гогочущих фашистов, заключенных построили у барака коменданта. Вскоре появились офицеры СС, начался допрос и самосуд. От каждого пленного не отходили до тех пор, пока у него из носа и рта не потекла кровь. Потом снова допрос у коменданта, и снова град ударов. Затем у нас отобрали одежду и вещи, нарядили в одежду штрафников. Пятнадцать человек были острижены наголо, а мне и ещё одному поляку, как наиболее опасным, пробрили полосу со лба на затылок.
Вечером выдали по стограммовому куску хлеба и по черпаку брюквенного супа. После, по утрам, полагалась кружка кофе и крохотный кусочек хлеба. Вот и все «меню». Так кормили ежедневно.
В полночь нас разбудили шрайберы (писаря). Включив свет, они начали заключенных гонять и бить палками, пьяно выкрикивая «Пшиско под лушко!», «Пшиско под лушко!» (все под койки). А потом всех отправили в бункер под замок.
В лагере штрафники делились на три группы. Первая, с которой я ночевал одну ночь, была только острижена. Они работали в лагере под присмотром надзирателей. У штрафников второй группы была пробрита полоса, их держали под замком в бункере. У штрафников третьей группы на голове был пробрит крест. В лагере их было свыше сорока человек. 7 ноября 1944 года 37 этих товарищей, в основном русских, были расстреляны в трех километрах от лагеря.
Для нас существовал следующий распорядок дня. Ежедневно в 6 часов утра в бункер забегал офицер и кричал: «Ахтунг!». Все быстро вскакивали. Тех, кто опаздывал одеться, он избивал палкой. Палкой же он выгонял нас из бункера, умышленно создавая в дверях пробку. Злобно ухмыляясь, фашист с каким-то особым наслаждением бил по головам заключенных.
С той же командой «Ахтунг! Алле раус!» офицер и еще один солдат выстраивали нас на плацу. Сначала колонну в 98 человек гоняли в течение получаса по лагерю, выкрикивая команды: «Упадь! Встань!», а кто не успевал, на того сыпался град ударов. Башмаки были деревянные, бежать в них и трудно, и больно. Приходилось падать в уже подернутые ледком лужи, в грязь. И только после такой «зарядки» нас гнали умываться.
Фашистские палачи всячески изощрялись в поисках все новых издевательств. Чего стоит хотя бы такая процедура: в качестве развлечения и потехи нас строили в две шеренги, потом эти их делили еще на две и заставляли задний строй заключенных садиться на передний. Каждому «наезднику» давалась палка. «Конница» наступала на «конниц у», начинался «бой». Битыми были и «конник и», и «кони». А офицеры СС и девушки-немки из канцелярии хохотали над нашими побоищами, жестоко наказывая тех, кто пытался увильнуть от этого занятия.
…Как-то в лагерь привели русского пленного. Он работал у немецкой помещицы и однажды, выведенный из себя издевательствами, кинулся на нее с ножом. Убить помещицу не удалось, а в штрафной лагерь попал.
Его долго допрашивали, избивали, снова допрашивали, а потом вывели во двор и гоняли вокруг столба с полдня до темна. Измученного, обессиленного, его, наконец, бросили к нам в бункер.
Мы сняли с него окровавленную рубашку. На спину было страшно смотреть, из затылка текла кровь. Видеть его мучения, слушать стоны было гораздо тяжелее, чем переносить побои самому.
Шестнадцатого декабря 1944 года группу русских в 113 человек приготовили к отправке. Куда – никто не знал. Вечером нас построили перед воротами лагеря, эсэсовец вынес четыре наручника. Выведя меня из строя, он надел на левую руку кольцо и начал отбирать ещё семь заключенных, выискивая наиболее строптивых. Ко мне был прикован молоденький паренек, еле стоящий на ногах от частых побоев.
Более двух суток нам, заключенным в наручники, не давали спать и не кормили. То и дело раздавались окрики немецких солдат, стоны избитых товарищей.
Я совсем выбился из сил и на третью ночь заснул на глазах у часового – русского предателя Петра (фамилии не знаю). Он мстил Советам за раскулаченных родителей и отличался особой жестокостью к русским. Однако перед нами не признавался, что он русский говорил, что по национальности поляк.
Увидев, что я сплю, он изо всей силы ударил меня по лицу. Из разбитого рта потекла кровь. На его вопросы, заданные на польском языке, я не отвечал, хотя и понимал их. Тогда он снова начал избивать меня. Я не выдержал и гордо крикнул ему, что я русский и по-польски разговаривать не буду, в отличие от него.
– Ах, ты не разумишь! – злобно закричал он и, с хватив автомат, начал бить меня прикладом по голове и лицу. – Ну, подожди, сейчас ты у меня заговоришь!
Вскоре на помощь ему подошел еще один часовой – совсем молодой эсэсовец, парнишка. Вдвоем они били меня до тех пор, пока я не потерял сознание.
На станцию Маутхаузен нас привезли ночью. Взвод автоматчиков четыре километра гнал нас пешком. Вот показался огромный городок, окруженный каменными стенами с рядами колючей проволоки и электропроводов наверху. Через каждые двести метров виднелась пулеметная вышка.
Была полночь. Мы очень устали, проголодались, а воздух был густо пропитан запахом жареного. В колонне военнопленных пошел разговор. Кто говорил, что нас привезли, судя по запаху, на мясоконсервный завод, кто – на хлебопекарню. И никто тогда ещё не знал, что нас ждет зловеще знаменитый концлагерь Маутхаузен, а запах в воздухе был запахом сожженных в крематории тел.
Перед воротами лагеря нас остановили. Над головами заключенных хищно распростер крылья огромный орел с ключем (орфография и пунктуация сохранена) в когтях и фашистским знаком. Нас начали расковывать.
Грудь и рукава моего пальто были в крови – следы недавней стычки с часовым. Заметив кровь, немецкий офицер злобно закричал мне и начал бить по лицу.
Вскоре всех повели в пустой барак, начали раздевать. Потом один из эсэсовцев пригибал голову заключенного, а другой бил по голой спине 25 плеток. Такому наказанию были подвергнуты 17 человек, пока не поступил приказ вести заключенных в лагерь.
Первую ночь ночевали прямо в бане. Там мы впервые и услышали от банщиков-французов об этом концентрационном лагере и о порядках, в нем существующих.
Мы узнали, что этот лагерь, как, собственно, и все концлагеря, используется фашистами как орудие проведения в жизнь человеконенавистнической расовой политики, орудие физического уничтожения огромных групп «расово неполноценного» населения.
В Маутхаузене был в силе приказ начальника главного административно-хозяйственного управления СС о руководстве концентрационными лагерями. В этом приказе, в частности, говорилось, что комендант лагеря лично ответственен за использование рабочей силы. Чтобы достигнуть максимальной производительности труда, использование этой рабочей силы должно быть реализовано в полном смысле слова до полного истощения сил.
Рабочий день не ограничен. Его длительность зависит от производственной структуры лагеря и от характера выполняемой работы и определяется лично комендантом лагеря.
Вследствие этого коменданту лагеря вменяется в обязанность сокращать до предела все мероприятия, влекущие за собой сокращение рабочего дня. Запрещаются различные переходы и обеденные перерывы.
Работать должны были как здоровые, так и больные. Совершенно истощенных и тяжелобольных уничтожали.
Утром нас помыли в бане, пришел врач, бегло осмотрел каждого заключенного. У меня на груди он написал слово «кретс» – чесотка. Вскоре меня и еще семь человек, тоже с надписями на груди, вывели из лагеря и повели в лазарет (ревир). В концлагерях путь из ревира, как правило, один – в крематорий. Кормили здесь еще хуже, чем в лагере, лечить нас никто не собирался: лазарет этот, по существу, служил преддверием смерти.
В ревире больные лежали на односпальных двухэтажных койках по четыре человека на каждой: два человека в одну сторону ногами, два – в другую. Спали голыми, без одеял.
Здесь были поляки, русские, венгры, чехи, французы, итальянцы, немцы-коммунисты, англичане, негры, арабы, польские и венгерские евреи и еще много других национальностей. Среди людей, несмотря на языковое различие, царило полное взаимопонимание, уважение друг к другу, интернациональное чувство солидарности.
Здесь мне рассказали, что в семи километрах от Маутхаузена есть каменоломня, где заключенных заставляли чуть ли не круглые с утки кирками долбить и переносить камни. Кто изнемогал или приостанавливался, – забивали палками.
За пленными следили капо (надсмотрщики) и оберкапо. Они были тоже заключенными. Это в основном бывшие уголовные преступники из Германии, Польши, Чехословакии, да и среди русских находились предатели. Кроме порядкового номера они носили еще и зеленый треугольник. Политические заключенные носили красный треугольник.
Вечером я пошел в умывальную комнату. Там же размещался и туалет. Открыв дверь, я остолбенел от ужаса, увидев перед собой огромную, человек в сорок, кладь мертвецов. На груди у каждого четко выведена одна из букв: И, Ф, Р, П и так далее. Это значит: итальянец, француз, русский, поляк.
Закрыв руками лицо и стараясь не дышать, я быстро пробежал в туалет. Здесь меня ожидал еще один удар: там находились голые заключенные евреи.
Таких изможденных – кожа и кости – людей мне ещё не приходилось видеть. Это были живые скелеты. Уже после мне рассказали, что ежедневно отсюда вывозят в крематорий более сотни погибающих от голода и болезней заключенных.
Такая же участь ждала и меня. Спасло только то, что я оказался здоровым, и 13 января 1945 года меня выписали из ревира. Так я снова попал в Маутхаузен, в 33 блок.
Пришло время самому познакомиться с установленной в лагере изощренной системой наказаний и устрашений, исходившей из «общих» указаний Гимлера о концентрационных лагерях. В указаниях, в частности, говорилось: «Лагерь обнести колючей проволок ой, через которую пропустить ток высокого напряжения. Разумеется, если кто-нибудь вступит в запретную зону – в него стреляют. Если кто-нибудь ведет себя нагло, строптиво, его сажают в темную одиночную камеру, где он получает только хлеб и воду, либо 25 палочных ударов».
За порядком здесь следили эсэсовцы, капо, шрайберы, блоковые, штубнистые и сам лагерфюрер Шульс, всегда ходивший с неразлучными плеткой и пистолетом. За малейшее нарушение порядка или проявленную нерасторопность каждому эсэсовцу было разрешено стрелять, забивать заключенных до смерти палкой или плеткой. Сам лагерфюрер немедленно пристреливал тех, кто пытался от него скрыться.
Особенно мучительным было трехчасовое пребывание в строю на апельплаце после изнурительного рабочего дня, пока всех тщательно не пересчитают. И так каждый день.
Я уже упоминал о существовании в лагере крематория, где сжигались трупы заключенных. Кроме него, людей уничтожали в газокамерах и специально оборудованных комнатах. Делалось это так: когда прибывали новые партии заключенных, фашисты выявляли наиболее опасных военно-пленных и заводили их в комнаты к врачам». Заключенного ставили к планке, чтобы измерить его рост, и здесь он получал выстрел в затылок. Примерно также убивали электротоком.
В Маутхаузене томилось немало советских офицеров и генералов. Среди них был и известный ученый, генерал Дмитрий Михайлович Карбышев. Он находился в двадцатом блоке, расположенном близко к стене, у самой пулеметной вышки. В этом блоке были собраны наиболее опасные для немцев люди – командиры, политработники, а также заключенные, совершившие несколько попыток к бегству.
Через неделю после прибытия в Маутхаузен нас одели в полосатую робу, на ноги – деревянные колодки. Каждый получил порядковый номер. Он пришивался к груди и на брюки, а железную дощечку с ним прикручивали проволокой к левой руке. Мой номер был 158698. С этим же номером я и еще 800 человек вскоре были увезены в рабочий австрийский концлагерь у города Мелька. Порядок здесь был точно такой же, как и в Маутхаузене.
На работе из заключенных выжимали все силы, добиваясь минимальных затрат на их содержание. Работа не прекращалась круглые сутки. Нужно было беспрерывно кидать землю на транспортер, заполнять бетономешалку песком и цементом. Всюду стояли и бегали по штольням эсэсовцы, капо, оберкапо. Тех, кто выбивался из сил, заболевал или садился на землю, не просто пристреливали, а забивали насмерть.
Как-то весной 1945 года после окончания ночной смены немцы не досчитались на плацу одного рабочего. Группа эсэсовцев бросилась в штольни на розыск. Вскоре плетками пригнали ослабевшего итальянца, нечаянно уснувшего в штольне. Здесь же, перед строем ему всыпали 50 плеток, после чего идти он уже не смог. Его несли заключенные. Дорогой итальянец умер.
В Мельк из Маутхаузена непрерывно поступали все новые партии заключенных. В марте в наш девятый блок прибыли заключенные немцы-антифашисты. Эти товарищи попали в Маутхаузен из польского концлагеря Дахау, к которому в это время совсем близко подошли советские войска. Они рассказывали, что их эвакуировали наспех, всю дорогу гнали пешком. Больше половины колонны эсэсовцы расстреляли дорогой.
От них я впервые услышал о побеге в Маутхаузене, который подготовил генерал Д. М. Карбышев.
Заключенные долго и тщатель но готовились к этому побегу. Разработали план, через товарищей общего лагеря добыли несколь ко пистолетов. 26 февраля участники побега присоединили к водопроводной трубе резиновый шланг и ночью сильную струю воды направили на часового вышки. Несколько человек бросились на вышку, чтобы овладеть пулеметом, а остальные полезли на стену.
Их не могли остановить ни колючая проволока, ни электроток высокого напряжения. Люди погибали, но своими телами защищали других от тока. Вскоре была захвачена вышка. Завладев пулеметом, заключенные стреляли до тех пор, пока весь блок не совершил побег.
В ту ночь вырвалось из заключения 96 человек. Генерал Карбышев участие в побеге не принимал, так как был стар и болен. За организацию побега фашисты раздели его догола и заморозили в ледяную глыбу – статую. Многие беглецы были пойманы. Их сразу же пристреливали, и в лагерь привозили только трупы.
С немцами-антифашистами, рассказавшими мне о побеге, я быстро сдружился, относясь к ним с огромным уважением. Они были соратниками Тельмана, томились в концлагерях с 1935-1937 годов. Многие из них так и не дождались свободы. Остались в живых Генрих Pay, Отто Нушке, Макс. Генрих Pay работал в правительстве ГДР и умер в 1962 году. О его героической жизни писала газета «Правда».
12 марта 1945 года со мной произошел случай, который встревожил весь блок. Наша команда работала в ночную смену, но днем уснуть тоже не было никакой возможности. В блоке (бывший гараж) размещалось 400 человек, от подъема до отбоя стоял невообразимый шум и крик.
Вечером надзиратель построил нас на работу. Сосчитав всех заключенных, ему показалось , что вести на апельплац еще рано, поэтому дал команду разойтись. Я прилег на койку и незаметно уснул. Меня долго искали, вызывали по фамилии и по номеру, но найти так и не смогли, так как света в блоке не было.
Проснулся я уже только в два часа ночи. В блоке темно, все спят. А за невыход на работу – 50 плеток или поставят под пулеметную вышку на двое суток. Если присел на землю – расстрел. Мне повезло в том, что произошла смена блоковых, и новый блоковый решил наказать меня сам, избив до полусмерти.
Ещё один случай, чуть было не закончившийся для меня смертью, произошел 4 апреля 1945 года. Рискуя жизнью, я носил из шахты небольшие чурочки для растопки лагерной кухни, за что повара-французы давали лишнюю порцию супа. Многих наших товарищей, наиболее ослабевших и больных, эта порция спасла от смерти.
Чурочки мы передавали в девять часов утра, а с работы приходили в семь часов. Я прилег на койку и не заметил, как заснул. Проснулся уже в половине десятого, на кухню опоздал. Пришлось спрятать свои чурки под матрац. Это заметил надсмотрщик-поляк. Он оттолкнул меня в сторону и начал вытаскивать чурки. Разозлившись, я его тоже оттолкнул и вырвал дрова из рук. Он кинулся на меня, и я ударил его деревянным башмаком в бок. Удар получился сильный, и поляк, закричав, полетел на пол.
На крик выскочил блоковый, стащил меня с койки и хотел дать 25 плеток, но потом придумал наказание пострашнее. Он приказал мне раздеться и поставил голого у стены. Было очень холодно. Я простоял свыше двух часов, до тех пор, пока меня не заметили немецкие коммунисты. Они заставили меня одеться и обязались взять под свою защиту.
С тех пор я начал кашлять и опухать. Ноги и руки сделались толстые, словно из стекла.
18 апреля писарь Борис (фамилии не знаю) подошел ко мне и шепотом передал, что завтра немцы собираются нас уничтожить. Об этом я предупредил всех русских, договорившись, что будем защищаться.
На следующий день нас погнали на работу. Заставляли разгружать и заносить в штольни взрывчатку. Все считали, что в лагерь больше не вернемся.
К концу работы немцы построили нас в колонны и посадили всех на землю. Шел проливной дождь. Вскоре эсэсовцы напились пьяными, в чем-то не поладили. Наш конвоир был трезв, он поднял свою колонну и увел в лагерь. За нами потянулись еще две колонны. Решение об уничтожении заключенных на сей раз было сорвано. Однако остальные колонны просидели под дождем до восьми часов следующего утра.
19 апреля наш лагерь был эвакуирован в западную часть Австрии, в концлагерь Эбензее. К этому времени там содержалось сорок тысяч заключенных. Кормить было нечем, весь рацион состоял из крошечного куска хлеба и супа из картофельной кожуры, которые выдавались один раз в сутки.
После работы изможденные заключенные с трудом возвращались в лагерь, в горы. Ко всему прочему ежедневно приходилось простаивать на апельплацу по 2-3 часа. Многие не выдерживали таких условий, их немедленно пристреливали. Для устрашения заключенных фашисты ежедневно демонстративно вешали по 2-3 человека.
С каждым днем я чувствовал себя все хуже. У меня еще больше опухли ноги, руки, лицо. И когда 3 мая нас повели на работу, я вышел из строя и упал на землю. Моему примеру последовали еще несколько заключенных, знавших, что все равно уже не вынесут рабочий день. На этот раз эсэсовцы не пристрелили нас. Когда закрылись ворота лагеря, к нам стали подходить шрайберы и уводить в лазарет.
Я знал, что из лазарета мне уже не вернуться. Здесь еще живых сбрасывали с коек и уносили в крематорий, так как не было места для вновь поступающих больных. К этому времени я уже ослеп и не мог двигаться, осталось только ждать смерти.
Но 6 мая союзные американские войска освободили Эбензее и в тот же день – Маутхаузен. Предчувствуя скорую помощь, заключенные этих концлагерей подняли восстание, учинив расправу над эсэсовцами, блоковыми, шрайберами, капо, оберкапо и другими палачами лагерей.
Более месяца я вместе с другими пробыл в американском лазарете. Затем нас передали в советский госпиталь.
Как страшный сон прошло время, проведенное в фашистских концлагерях. Много хороших товарищей приобрел я в суровые дни испытаний, многих из них там же и потерял. Мрачное прошлое уходит все дальше, и оно никогда не должно повториться. Вместе с честными людьми всего мира мы говорим:
– Нет – фашизму, в каких бы формах он ни возрождался!
– Нет – поджигателям новой войны, пытающимся сжечь свободу народов в атомном пламени!
– Да – свободе всех народов, миру и счастливой жизни!